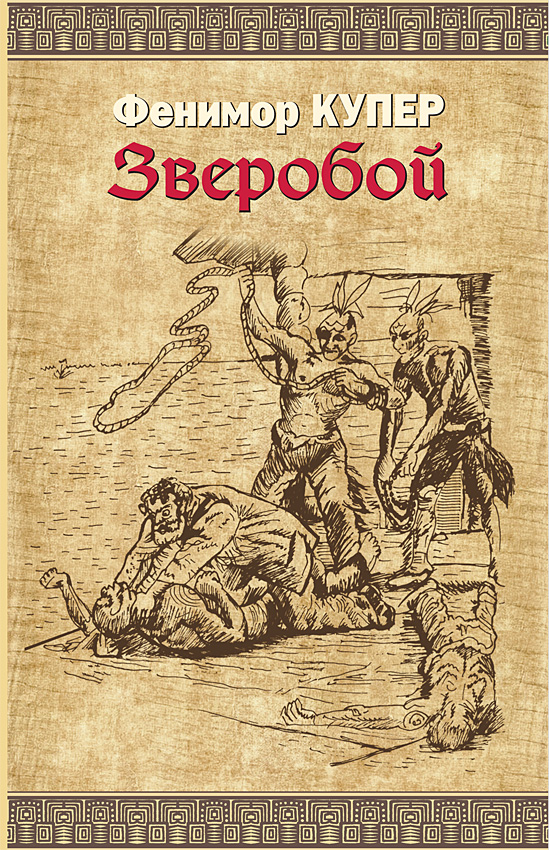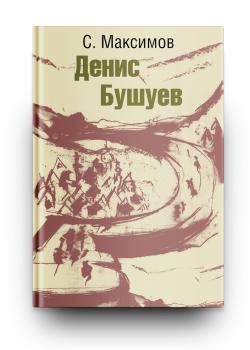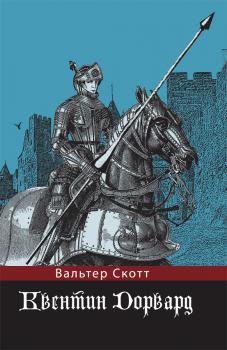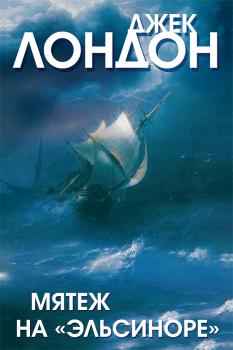| в корзине (0 шт.) на сумму (0.00) |
14.09.2017: Предисловие редактора к американскому изданию романа Е. И. Замятина "Мы"
«Человек перестал быть обезьяной в тот день, когда вышла первая книга. Обезьяна никогда не забывала это унижение: просто попробуй дать ей книгу, она тотчас же изомнет ее, растопчет, разорвет». (Из неопубликованного предисловия Замятина к книге «Мы».)
В 1927 году, когда я служил литературным редактором эмигрантского ежемесячного журнала «Воля России», выходившего в Праге, мне в руки попала рукопись романа «Мы» Евгения Замятина. Английская версия этого замечательного романа, предвестника романов «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла, вышла в «Даттоне» в Нью-Йорке в 1924 году. Поскольку она никогда не появлялась на русском языке, я обрадовался возможности предложить «Мы» нашим читателям, но боялся, что это создаст проблемы для автора, который жил в Ленинграде и, очевидно, не был в большом почете у коммунистических властей. Роман ранее был переведен на чешский язык, и я сделал вид, что мы будем переводить его с чешского на русский. Чтобы подтвердить этот факт, который был изложен во вступительной заметке, предшествующей тексту в нашем журнале, я намеренно изменил или переработал довольно много кусков оригинала, и я должен сказать, что переделка и искажение лаконичной и красивой прозы Замятина заставляло меня чувствовать себя преступником.
Однако уловка не сработала. Как только «Мы» появился в «Воле России», коммунистическая пресса в СССР открыла ожесточенную кампанию против автора и предъявила ему обвинение в том, что он передал свой роман, который был запрещен в России, эмигрантскому изданию. Названный контрреволюционером и врагом народа, Замятин подвергся поношению и остракизму. Он был вынужден выйти из профессиональных организаций и не мог публиковаться в советских периодических изданиях. Как он сказал позже, в 1931 году, «критика сделала из меня чёрта советской литературы. Плюнуть на чёрта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал как умеет». Его положение ухудшилось, и он обратился к Сталину с просьбой разрешить ему выехать за границу, «немного отдохнуть от травли и преследований». Просьба Замятина была поддержана Горьким, который восхищался создателем «Уездного», «Островитян» и многих других произведений, которые повлияли на целое поколение русских писателей. Ко всеобщему удивлению, Замятин и его жена быстро получили паспорта для поездок по Европе. После короткого пребывания в Германии и Чехословакии они наконец обосновались в Париже, где жил в то время и я.
Должен признаться, что я чувствовал себя довольно неловко при нашей первой встрече. Был ли я ответственен, хоть и косвенно, за то, что случилось с Замятиным в 1929 году? Была ли публикация «Мы» в «Воле России» причиной нападок на него? Но как только я высказал свои сомнения Замятину, он их с улыбкой развеял. Его грех, объяснил он мне, был не пустяшным, а осознанным — почти первородным, — и инцидент с «Волей России» просто послужил предлогом для распятия еретика, чтобы заставить замолчать его навсегда. Он говорил спокойным, ровным голосом, лишь едва меняя интонацию, когда бросал саркастический намек или ироническое замечание. Даже после короткой беседы с Замятиным можно было легко понять, почему коммунистические чиновники так жестоко сражались с ним. Вся его личность представляла собой угрозу конформизму и вызов принятым устоям. Это был человек, джентльмен, независимый художник и бесстрашный мыслитель. Вскоре мы сделались приятелями, и наши близкие отношения подтвердили и углубили мои первые впечатления. В течение четырех лет, пока Замятин оставался в Париже, мы виделись очень часто; осенью 1935 года он переехал ко мне, и мы вели долгие, сокровенные беседы почти каждый вечер. К моему восхищению Замятиным-писателем добавилась привязанность к Замятину-человеку.
Он был худощав, среднего роста, чисто выбрит, с расчесанными на прямой пробор светло-каштановыми волосами. Он выглядел намного моложе своих пятидесяти лет, и коварный блеск его серых глаз очень шел мальчишескому выражению его лица. Он носил костюм из твида и держал дымящуюся трубку большим, красиво очерченным ртом, чем походил на англичанина. Он был опрятен и подтянут. Его манеры были сдержанными, а для тех, кто знал его мало, он и вовсе казался «застегнутым на все пуговицы», будто «шпагу проглотившим», а был он человеком большой внутренней силы, совершенного самообладания и яркого ума. Морской инженер и профессиональный технарь, он был в равной степени математик и художник, одинаково силен в логике и воображении, пунктуальности и фантазии. В свой речи он использовал как научные, так и театральные термины вперемешку; например он говорил: «В это время я жил в городе Николаеве; я сконструировал там несколько бульдозеров и написал несколько рассказов». Во время революции он давал уроки целой группе молодых писателей, которые впоследствии стали известны как «Серапионовы братья», — и он говорил мне со своей обычной усмешкой: «Я научил их искусству писать правдиво». Но этот мастер лаконичной и предельно ясной прозы, этот «экономический художник», который проповедовал «функциональный экспрессионизм», был, несмотря на его холодную и строгую внешность, человеком страстным и чувственным. Александр Блок дружески называл его: «The Englishman from Moscow». Его друзья подчеркивали в Замятине национальные русские черты, широчайший внутренний мир, глубину чувств и идеалистические устремления. Как и многие люди с научным складом ума, он любил мечты и иррациональные полеты мысли, воспевая стремление человека выйти за рамки возможного. Противник обыденных правил, догматических суждений и букв закона, он сражался за свободу человека в искусстве и жизни. Со смехом он рассказывал мне, как некие мелкие партийные деятели в Ленинграде захлебывались яростью, когда он в очередной раз публично пропагандировал свою любимую теорию о том, что «истинная революция — это универсальная революция, в которой социальный переворот был бы лишь незначительным элементом». «Революционный процесс сам по себе, — заявлял Замятин, — всеобъемлющ, и он охватывает затраты или сохранение энергии, преобразование материи или остановку энтропии до значений абсолютного нуля. А догма, — добавлял он, — это оболочка, которая заключает в себе огненную магму, расплавленный материал, из которого образуется скальная порода». У Замятина была богатая и разнообразная жизнь, заполненная творчеством, работой и борьбой. Ссылаемый при царизме, преследуемый при большевистском режиме, он никогда не переставал быть социальным сатириком и не опускался до тривиальности и мелочности. Он обладал сильным оружием — иронией — и любил цитировать знаменитый лозунг Анатоля Франса: «Ирония, которую я призываю, не жестока, она не смеется ни над любовью, ни над красотой; она учит нас смеяться над злыми и глупыми, которых без нее мы имели бы слабость ненавидеть». Но часто, рассказывая мне о преступлениях и злоупотреблениях, совершаемых в России во имя освобождения человечества, Замятин не скрывал своего негодования.
Чем больше я его знал, тем больше я уважал его целостность, силу убеждений, его нравственное мужество и чувство человеческого достоинства, благодаря которым он отвергал компромиссы с властью, политическую капитуляцию перед нею. Однажды вечером, описывая подробности своего отъезда из России, он прочитал мне письмо, адресованное Сталину в 1931 году. Его вступление звучало как личностая характеристика: «Я знаю, — писал Замятин, — что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию». Оставив свой любимый Ленинград, он писал, что сможет «вернуться домой, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова».
Однако этим мечтам так и не суждено было сбыться. За то время, что Замятин протестно работал в Париже, в положении русских писателей ничего не изменилось. Его здоровье, подорванное лишениями революционной эпохи и высочайшим нервным напряжением, которое он испытывал годами, стало сдавать. Осенью 1936 года меня пригласил его врач и сказал, что Замятин неизлечимо болен, его дни сочтены, болезнь сердца, неделями заставлявшая лежать в постели, приближает неизбежный конец. Замятин исхудал, стал почти прозрачным; он говорил с трудом, и его единственной радостью было слушать музыку, особенно Мусоргского, которым он всегда восхищался как великим выразителем русского гения. Он слушал Бориса Годунова в день своей смерти в марте 1937 года.
Небольшая группа друзей проводила его в последний путь на французском кладбище в Тье, недалеко от Парижа. Никакие некрологи в советской печати не появились: официальное молчание, которое не давало русским читателям доступа к творчеству Замятина в течение его жизни, продолжается после его смерти. Работы этого экстраординарного и блестящего писателя уже более двадцати лет по прежнему запрещены на его родине.
Марк Слоним
1959
В 1927 году, когда я служил литературным редактором эмигрантского ежемесячного журнала «Воля России», выходившего в Праге, мне в руки попала рукопись романа «Мы» Евгения Замятина. Английская версия этого замечательного романа, предвестника романов «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла, вышла в «Даттоне» в Нью-Йорке в 1924 году. Поскольку она никогда не появлялась на русском языке, я обрадовался возможности предложить «Мы» нашим читателям, но боялся, что это создаст проблемы для автора, который жил в Ленинграде и, очевидно, не был в большом почете у коммунистических властей. Роман ранее был переведен на чешский язык, и я сделал вид, что мы будем переводить его с чешского на русский. Чтобы подтвердить этот факт, который был изложен во вступительной заметке, предшествующей тексту в нашем журнале, я намеренно изменил или переработал довольно много кусков оригинала, и я должен сказать, что переделка и искажение лаконичной и красивой прозы Замятина заставляло меня чувствовать себя преступником.
Однако уловка не сработала. Как только «Мы» появился в «Воле России», коммунистическая пресса в СССР открыла ожесточенную кампанию против автора и предъявила ему обвинение в том, что он передал свой роман, который был запрещен в России, эмигрантскому изданию. Названный контрреволюционером и врагом народа, Замятин подвергся поношению и остракизму. Он был вынужден выйти из профессиональных организаций и не мог публиковаться в советских периодических изданиях. Как он сказал позже, в 1931 году, «критика сделала из меня чёрта советской литературы. Плюнуть на чёрта — зачитывается как доброе дело, и всякий плевал как умеет». Его положение ухудшилось, и он обратился к Сталину с просьбой разрешить ему выехать за границу, «немного отдохнуть от травли и преследований». Просьба Замятина была поддержана Горьким, который восхищался создателем «Уездного», «Островитян» и многих других произведений, которые повлияли на целое поколение русских писателей. Ко всеобщему удивлению, Замятин и его жена быстро получили паспорта для поездок по Европе. После короткого пребывания в Германии и Чехословакии они наконец обосновались в Париже, где жил в то время и я.
Должен признаться, что я чувствовал себя довольно неловко при нашей первой встрече. Был ли я ответственен, хоть и косвенно, за то, что случилось с Замятиным в 1929 году? Была ли публикация «Мы» в «Воле России» причиной нападок на него? Но как только я высказал свои сомнения Замятину, он их с улыбкой развеял. Его грех, объяснил он мне, был не пустяшным, а осознанным — почти первородным, — и инцидент с «Волей России» просто послужил предлогом для распятия еретика, чтобы заставить замолчать его навсегда. Он говорил спокойным, ровным голосом, лишь едва меняя интонацию, когда бросал саркастический намек или ироническое замечание. Даже после короткой беседы с Замятиным можно было легко понять, почему коммунистические чиновники так жестоко сражались с ним. Вся его личность представляла собой угрозу конформизму и вызов принятым устоям. Это был человек, джентльмен, независимый художник и бесстрашный мыслитель. Вскоре мы сделались приятелями, и наши близкие отношения подтвердили и углубили мои первые впечатления. В течение четырех лет, пока Замятин оставался в Париже, мы виделись очень часто; осенью 1935 года он переехал ко мне, и мы вели долгие, сокровенные беседы почти каждый вечер. К моему восхищению Замятиным-писателем добавилась привязанность к Замятину-человеку.
Он был худощав, среднего роста, чисто выбрит, с расчесанными на прямой пробор светло-каштановыми волосами. Он выглядел намного моложе своих пятидесяти лет, и коварный блеск его серых глаз очень шел мальчишескому выражению его лица. Он носил костюм из твида и держал дымящуюся трубку большим, красиво очерченным ртом, чем походил на англичанина. Он был опрятен и подтянут. Его манеры были сдержанными, а для тех, кто знал его мало, он и вовсе казался «застегнутым на все пуговицы», будто «шпагу проглотившим», а был он человеком большой внутренней силы, совершенного самообладания и яркого ума. Морской инженер и профессиональный технарь, он был в равной степени математик и художник, одинаково силен в логике и воображении, пунктуальности и фантазии. В свой речи он использовал как научные, так и театральные термины вперемешку; например он говорил: «В это время я жил в городе Николаеве; я сконструировал там несколько бульдозеров и написал несколько рассказов». Во время революции он давал уроки целой группе молодых писателей, которые впоследствии стали известны как «Серапионовы братья», — и он говорил мне со своей обычной усмешкой: «Я научил их искусству писать правдиво». Но этот мастер лаконичной и предельно ясной прозы, этот «экономический художник», который проповедовал «функциональный экспрессионизм», был, несмотря на его холодную и строгую внешность, человеком страстным и чувственным. Александр Блок дружески называл его: «The Englishman from Moscow». Его друзья подчеркивали в Замятине национальные русские черты, широчайший внутренний мир, глубину чувств и идеалистические устремления. Как и многие люди с научным складом ума, он любил мечты и иррациональные полеты мысли, воспевая стремление человека выйти за рамки возможного. Противник обыденных правил, догматических суждений и букв закона, он сражался за свободу человека в искусстве и жизни. Со смехом он рассказывал мне, как некие мелкие партийные деятели в Ленинграде захлебывались яростью, когда он в очередной раз публично пропагандировал свою любимую теорию о том, что «истинная революция — это универсальная революция, в которой социальный переворот был бы лишь незначительным элементом». «Революционный процесс сам по себе, — заявлял Замятин, — всеобъемлющ, и он охватывает затраты или сохранение энергии, преобразование материи или остановку энтропии до значений абсолютного нуля. А догма, — добавлял он, — это оболочка, которая заключает в себе огненную магму, расплавленный материал, из которого образуется скальная порода». У Замятина была богатая и разнообразная жизнь, заполненная творчеством, работой и борьбой. Ссылаемый при царизме, преследуемый при большевистском режиме, он никогда не переставал быть социальным сатириком и не опускался до тривиальности и мелочности. Он обладал сильным оружием — иронией — и любил цитировать знаменитый лозунг Анатоля Франса: «Ирония, которую я призываю, не жестока, она не смеется ни над любовью, ни над красотой; она учит нас смеяться над злыми и глупыми, которых без нее мы имели бы слабость ненавидеть». Но часто, рассказывая мне о преступлениях и злоупотреблениях, совершаемых в России во имя освобождения человечества, Замятин не скрывал своего негодования.
Чем больше я его знал, тем больше я уважал его целостность, силу убеждений, его нравственное мужество и чувство человеческого достоинства, благодаря которым он отвергал компромиссы с властью, политическую капитуляцию перед нею. Однажды вечером, описывая подробности своего отъезда из России, он прочитал мне письмо, адресованное Сталину в 1931 году. Его вступление звучало как личностая характеристика: «Я знаю, — писал Замятин, — что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию». Оставив свой любимый Ленинград, он писал, что сможет «вернуться домой, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова».
Однако этим мечтам так и не суждено было сбыться. За то время, что Замятин протестно работал в Париже, в положении русских писателей ничего не изменилось. Его здоровье, подорванное лишениями революционной эпохи и высочайшим нервным напряжением, которое он испытывал годами, стало сдавать. Осенью 1936 года меня пригласил его врач и сказал, что Замятин неизлечимо болен, его дни сочтены, болезнь сердца, неделями заставлявшая лежать в постели, приближает неизбежный конец. Замятин исхудал, стал почти прозрачным; он говорил с трудом, и его единственной радостью было слушать музыку, особенно Мусоргского, которым он всегда восхищался как великим выразителем русского гения. Он слушал Бориса Годунова в день своей смерти в марте 1937 года.
Небольшая группа друзей проводила его в последний путь на французском кладбище в Тье, недалеко от Парижа. Никакие некрологи в советской печати не появились: официальное молчание, которое не давало русским читателям доступа к творчеству Замятина в течение его жизни, продолжается после его смерти. Работы этого экстраординарного и блестящего писателя уже более двадцати лет по прежнему запрещены на его родине.
Марк Слоним
1959