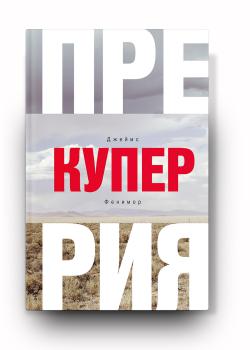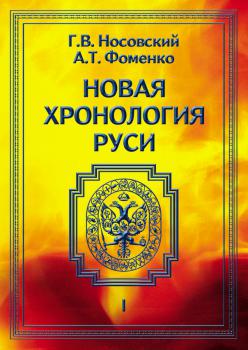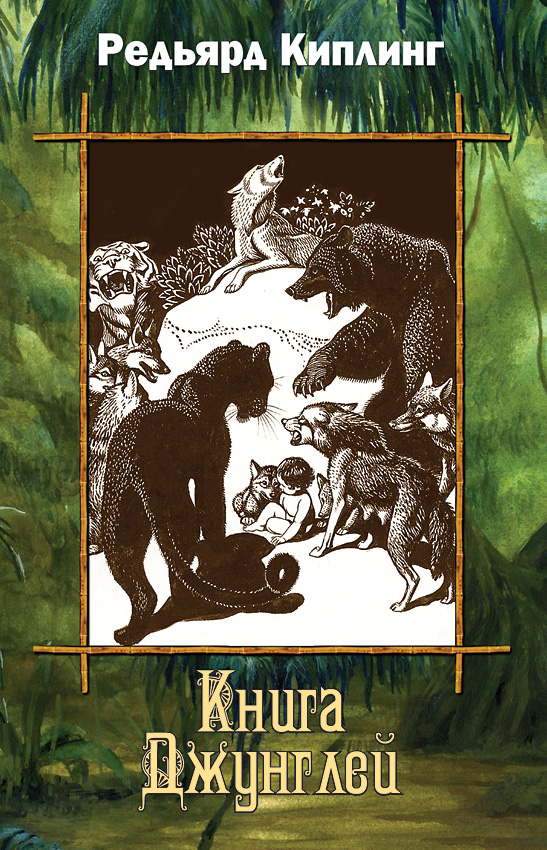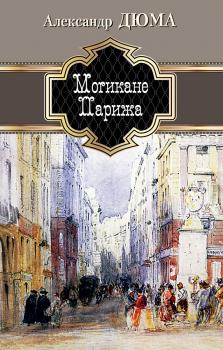| в корзине (0 шт.) на сумму (0.00) |
12.04.2011: Фрагмент из статьи Герцена А. И. «Гофман»
Герцен А. И.
Фрагмент из статьи "Гофман"
Родился 24 января 1776.
Умер 25 июня 1822.
(Н. П. О<ГАРЕВ>У)
I
...Die Künstler und die Räuber, das
Ist eine Art der Leute. Beide meiden
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens.
Oelilenschlager. "Correggio"*.
Всякий божий день являлся поздно вечером какой‑то человек в один винный погреб в Берлине; пил одну бутылку за другой и сидел до рассвета. Но не воображайте обыкновенного пьяницу; нет! Чем более он пил, тем выше парила его фантазия, тем ярче, тем пламеннее изливался юмор на все окружающее, тем обильнее вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посещений, его литературная и музыкальная слава привлекали целый круг обожателей в питейный дом, и когда иностранец приезжал в Берлин, его вели к Люттеру и Вегнеру, показывали непременного члена и говорили: «Вот наш сумасбродный Гофман». Посмотрим на эту жизнь, оканчивающуюся питейным домом. Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям, но не жизнь германского автора, — для них злой Гейне выдумал алгебраическую формулу**: «Родился от бедных родителей, учился теологии, но почувствовал другое призвание, тщательно занимался древними языками, писал, был беден, жил уроками и перед смертью получил место в такой‑то гимназии или в таком‑то университете». Но «есть люди, подобные деньгам, на которых чеканится одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые для частного случая» {«Hoffmann`s Lebens-Ansichten des Raters Murr».}; и к последним‑то принадлежал сказавший эти слова Гофман. Его жизнь нисколько не была похожа на прозябение, она самая странная, самая разнообразная из всех его повестей, или, лучше, в ней‑то зародыш всех его фантастических сочинений.
Одиноко воспитывался Гофман в чинном, чопорном доме своего дяди. Странное влияние на душу младенческую делает одиночество; оно навсегда кладет зародыш какой‑то робости и самонадеянности, дикости и любви, а более всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: бледный, тонкий, едва живой, он так похож на растение, выросшее в парнике, так нежно, так застенчиво, так близко жмется к отцу, так краснеет от каждого слова и при каждом слове, так сосредоточен сам в себе, что если он только не лишен способностей, то из него необходимо выйдет человек, не принадлежащий толпе, ибо он не в ней воспитан, ибо он не был в переделе у толпы какого‑нибудь пансиона, которая бы научила его завидовать чужим успехам, унизила бы его чувства, развратила бы его воображение. Вот такое‑то дитя был Гофман {И он очень хорошо знал огромное влияние своего воспитания между четырьмя стенами, как видно из писем его к Гиппелю.}. Главная отличительная черта подобным образом воспитанных детей состоит в том, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зреют чувствами и умом, для того чтоб никогда не созреть вполне; теряют прежде времени почти все детское, для того чтоб после на всю жизнь остаться детьми. Ребенок Гофман — большой человек, мечтатель, страстный друг Гиппеля и решительный музыкант; но он скверно учится, и это — следствие воспитания, в котором человек должен развиваться сам из себя: надо непременно побывать в публичном заведении, чтоб получить утиную способность пожирать равным образом десять разных наук, не любя ни которой, из одного благородного соревнования. Гофман находил скучным Цицерона и не читал его; призвание его было чисто художническое; не форум — консерватория была ему нужна. В том же доме, где воспитывался Гофман, жила сумасшедшая женщина, пророчившая в исступлении высокую судьбу своему сыну, Захарии Вернеру! Какие странные впечатления должна была она сделать на младенческую душу соседа!
Гофмана-юношу отправили в университет um die Rechte zu studieren {чтобы изучать юриспруденцию (нем.). — Ред.}, назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостен университет с своими пандектами и бранденбургским правом, с своей латинью и профессорами; его пламенная душа начинает развиваться, его фантазия жаждет восторгов, жизни; а что может быть наиболее удалено от всего фантастического, всего живого, как не школьные занятия!
Da wird der Geist euch wohl drossiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt***.
Он становится мрачен, ибо начинает разглядывать действительный мир во всей его прозе, во всех его мелочах; это простуда от мира реального, это холод и ужас, навеваемый дыханием людей на грудь чистого юноши. И тут‑то рождается в нем потребность сорваться с пути битого, обыкновенного, пыльного, которую мы равно видим во всех истинных художниках. Он все, что вам угодно, — живописец, музыкант, поэт… только, ради бога, не юрист — не буднишний, вседневный человек. И эта борьба между симпатиею и необходимостию заставляет его делать пресмешные вещи. Получив хорошее место в Позене****, знаете ли, чем он дебютировал? Карикатурами на всех своих начальников; те отвечали на них доносом, и Гофман не успел привыкнуть к Позену, как его отставили. Спустя несколько времени мы видим его важным советником правления в Варшаве. Но он не переменился; это все тот же музыкант: хлопочет, трудится, собирает деньги, чтоб завести филармоническую залу; успел, и Regierungsrat Hoffmann {правительственный советник Гофман (нем.). — Ред.}, в засаленной куртке, целые дни на стропилах разрисовывает плафон залы; окончив, он же является капельмейстером, бьет такт, дирижирует, сочиняет так усердно, что нисколько не замечает, что вся Европа в крови и огне. Между тем война, видя его невнимательность, решается сама посетить его в Варшаве; он бы и тут ее не заметил, но надо было на время прекратить концерты. Гофман в горе; но через несколько дней пишет к Гитцигу*****, что концерты снова продолжаются, что он побранился с Наполеоновым капельмейстером; «что ж касается до политических обстоятельств, они меня не очень занимают… искусство — вот моя покровительница, моя защитница; моя святая, которой я весь предан»!.. Дóлжно ли после того удивляться, что Шлегель и Вильмен розно понимают литературу, что один дал ей самобытный полет, чтоб не заставить ее делить скучный покой своей родины, а другой приковал ее к обществу, чтобы ускорить развитие литературы, сообщив ей быстрое движение гражданственности? Шлегель и Вильмен — это Германия и Франция: Германия, мирно живущая в кабинетах и библиотеках, и Франция, толпящаяся в кофейных и Пале-Ройяле; Германия, внимательно перечитывающая свои книги, и Франция, два раза в день пожирающая журналы {Газеты, от journal (франц.).}. Гофман, занятый до того концертами, что не заметил приближения Наполеона, есть тип прошедшего, сверхземного направления литературы германской. По большей части сочинители, жившие до 1813 года, воображали, что все земное слишком низко для них, и жили в облаках; но это им не прошло даром. Теперь, когда Германия проснулась при громе Лейпцигской битвы, явилось новое поколение, более земное, более национальное. Теперь Гейне бичует своим ядовитым пером направо и налево старое поколение, которое разобщило себя с родиной, прошлую эпоху, которая так колоссально, так величественно окончилась в Веймаре 22 марта 1832 года******. Впрочем, Гёте страшно причислять к этому направлению: Гёте был слишком высок, чтоб иметь какое‑либо направление, слишком высок, чтоб участвовать в этих гомеопатических переворотах… Как бы то ни было, Гофман сам очень чувствовал и очень хорошо представил односторонность германских ученых, окопавших себя валом от всего человечества, в превосходной повести своей «Datura fastuosa». Но обратимся к его жизни.
Принужденный оставить Варшаву и свою собственноручную залу, он отправился в Берлин с шестью луидорами, которые у него на дороге украли; пристроился как‑то к Бамбергскому театру; и с того‑то времени (1809), собственно, начинается литературное его поприще: тогда написал он дивный разбор Бетховена и Крейслера*******. Впрочем, это еще не тот Крейслер, из жизни которого макулатурные листы попались в когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образование, основа этого лица, которому Гофман подарил все свои свойства, который несколько раз является в разных его сочинениях и который занимал его до самой кончины. Вскоре узнала его вся Германия, и Гофман является формальным литератором. Этому дивиться нечего: Германия — страна писания и чтения. «Что бы мы ни делали одной рукой, в другой — непременно книга, — говорит Менцель. — Германия нарочно для себя изобрела книгопечатание и без устали всё печатает и все читает» {«Die deutsche Literatur», von W. Menzel.}. В тоже время Гофман пишет музыкальные произведения, дает уроки, рисует, снимает портреты и par dessus le marche {вдобавок (франц.). — Ред.} острит, просит, чтоб ему платили не только за уроки, но и за приятное препровождение времени; сверх всего того, он при театре компонист, декоратор, архитектор и капельмейстер. Впрочем, финансовые его обстоятельства всё не блестящи: 26 ноября 1812 года в дневнике его написана печальная фраза: «Den alten Rock verkault um nur essen zu können» {«Продан старый сертук, чтоб есть»********.}. Эта пестрая жизнь служит доказательством, что беспорядочная фантазия Гофмана не могла удовлетворяться немецкой болезнью — литературой. Ему надобно было деятельности живой, деятельности в самом деле; и вы можете прочесть в его журнале того времени, как он страстно был влюблен в свою ученицу — «он, женатый человек!» (как будто женатым людям отрезывается всякая возможность любить!).
С 1814 года настает последняя эпоха жизни Гофмана, обильная сочинениями и дурачествами. Он поселился в Берлине, в этом первом городе Бранденбургского курфиршества, который сделался первым городом Германии, sauf le respect que je dois {при всем моем уважении к… (франц.). — Ред.} Вене с ее аристократической улыбкой, готическими нравами и церковью св. Стефана. Берлин не Бамберг, Берлин живет жизнию ежели не полной, то свежей, юной; он увлек, завертел Гофмана, и Гофман попал в аристократический круг, в черном фраке, в башмаках, читает статейки, слушает пенье, аккомпанирует. Но аристократы скучны; сначала их тон, их пышность, их освещенные залы нравятся; но все одно и то ж надоест донельзя. Гофман бросил аристократов и с паркета, из душных зал бежал все вниз, вниз и остановился в питейном доме. «От восьми до десяти, — пишет он, — сижу я с добрыми людьми и пью чай с ромом; от десяти до двенадцати также с добрыми людьми и пью ром с чаем». Но это еще не конец; после двенадцати он отправляется в винный погреб, сохраняя в питье то же crescendo {нарастание (итал.). — Ред.}. Тут‑то странные, уродливые, мрачные, смешные, ужасные тени наполняли Гофмана, и он в состоянии сильнейшего раздражения схватывал перо и писал свои судорожные, сумасшедшие повести. В это время он сочинил ужасно много и, наконец, торжественно заключил свою карьеру автобиографией Кота Мурра. В Коте и Крейслере Гофман описывал сам себя; но, впрочем, у него в самом деле был кот, которого называли Мурром и в которого он имел какую‑то мистическую веру. Странно, что Гофман, совершенно здоровый, говаривал, что он не переживет Мурра, и действительно умер вскоре после смерти кота. Страдая мучительною болезнию (tabes dorsalis), он был все тот же, фантазия не охладела. Лишившись ног и рук, он находил, что это прекрасное состояние; его сажали против угольного окна, и он несколько часов сидел, смотря на рынок и придумывая, за чем кто идет {«Meines Vetters Eckfenster».}, а когда ему прижигали каленым железом спину, воображал себя товаром, который клеймят по приказу таможенного пристава! Теперь, доведши его жизнь до похорон, обратимся к его сочинениям.
17 февраля 1834 года.
* ...Художники и разбойники — это особый род людей. И те и другие избегают широкой пыльной дороги обыденной жизни. Эленшлегер. «Корреджо» (нем.). — Ред.
** ...Гейне выдумал алгебраическую формулу… — Герцен приводит далее в свободном переводе характеристику немецкого писателя XVIII в. И. Г. Фосса из статьи Гейне «Романтическая школа», впервые напечатанной в 1833 г. в журнале «L`Europe littêraire». В сокращенной публикации статьи Гейне в «Телескопе», часть XIX, No 3 за 1834 г., цитируемые Герценом строки отсутствуют. Тем самым устанавливается, что Герцен познакомился со статьей Гейне по ее французскому первоисточнику (ср. Л. Крестова. Портрет Гёте под пером молодого «Герцена» — «Звенья», 1933, т. II, стр. 90).
*** Goethe «Faust», 1 Teil <«Там как следует вымуштруют ваш дух, зашнуруют его в испанские сапоги» (нем.)>.
**** Получив хорошее место в Позене… — В марте 1800 г. Гофман был назначен асессором (Beisitzer) королевского суда в Познани (Позене — по немецкому наименованию), а весной 1802 г. переведен в Плоцк; в 1804–1806 гг. он — советник правления (Regierungsrat) в Варшаве.
***** ...пишет к Гитцигу… — Книга друга и биографа Гофмана, немецкого криминалиста и писателя Эдуарда Гитцига «Aus Hoffmann`s Leben und Nachlaß» (Berlin, 1823) послужила Герцену основным источником для биографической канвы комментируемой статьи.
****** 22 марта 1832 года — день смерти Гёте.
******* ...дивный разбор Бетховена и Крейслера. — Имеются в виду музыкальные очерки «Крейслериана» (1810) из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло».
******** «Продан старый сертук, чтоб есть». — Едва ли этот неуклюжий перевод немецкой фразы принадлежит самому Герцену, как полагал Лемке; правильнее рассматривать его как перевод, сделанный редакцией «Телескопа». Вполне вероятно, что и указания на источники цитат, приведенные в подстрочных примечаниях к статье, также были внесены в текст редакцией «Телескопа».